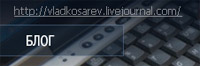Я не выхожу «рвать зал»13.03.2014http://www.smol-news.ru/?p=7188 http://www.smol-news.ru/?p=6923 Владислав Косарев: «Я не выхожу «рвать зал» Гостем очередного выпуска авторской программы Сергея Новикова «Диалоги» (совместный проект газеты «Смоленские новости» и телекомпании «Феникс») стал певец, лауреат международных конкурсов Владислав Косарев. Предлагаем вашему вниманию газетный вариант этой беседы.
– Здравствуйте, Владислав. – Здравствуйте, Сергей.
– Я приветствую Вас в программе «Диалоги». Вот представил Вас как московского гостя, но, наверное, даже не все Ваши поклонники знают, что Вы – наш, смоленский. – Да, это так.
– Если говорить о смоленском детстве, это где, это что? – Это улица Маршала Соколовского, это школа № 29, музыкальная школа № 8 – это всё рядом, всё в одном районе. Я хоть и живу уже в Москве более 18 лет, но по-прежнему считаю себя смолянином. Я им был и им остаюсь. Наверное, никогда не стану москвичом – ни по менталитету, ни по чувствам, которые я испытываю к этому городу. Я Москву уважаю, где-то ею восхищаюсь, где-то она меня огорчает, но люблю я свой родной Смоленск.
– А кто был тот человек, который сказал Вам после окончания музыкального училища: надо ехать в Москву? – Это была Зайцева Людмила Борисовна, мой педагог по дирижированию. С первого курса она меня настраивала на это – медленно, аккуратно, но верно.
– В училище Вы закончили отделение хорового дирижирования. – Совершенно верно – отделение дирижирования академическим хором – так это называлось. И в академию Гнесиных я поступил тоже на этот факультет, 5 лет отучился и стажировку у профессора Семенюка в Гнесинке тоже по этой специальности проходил, а потом ещё 7 лет отработал в этой профессии.
– Это мужской камерный хор «Пересвет». – Да, точно.
– Владислав, вот слушают нас сейчас учащиеся музыкального училища в Смоленске. Вы им посоветуете поехать в Москву? И к чему им в этом случае надо быть готовым? – Я бы им, прежде всего, сказал, что сейчас очень непростое время для людей, которые хотят быть профессиональными музыкантами – именно в классическом направлении, а не в популярной музыке. Непростое, потому что для успеха в этой профессии, для того чтобы получать не только моральное удовлетворение, но и материальное, надо очень много и очень правильно работать. И поэтому, пока они в Смоленске, я бы им посоветовал внимательно слушать то, что говорят им педагоги в музучилище. Какими бы занудами они ни казались! Я вот в Москве очень хорошо понял: всё, что мне говорили и Людмила Борисовна в училище, и Геннадий Александрович Барыкин в музыкальной школе, – это всё оказалось правдой и всё мне пригодилось. Все мои упущения, все мои ошибки, моя лень, моё разгильдяйство – всё мне потом вышло боком и пришлось навёрстывать.
– А когда пришло понимание, что не зря уехали из Смоленска, не зря столько всего преодолели? – В первый раз это случилось, когда в 2001 году я получил первую премию на конкурсе дирижеров в Екатеринбурге. И когда диплом вручал мне выдающийся дирижёр Владимир Николаевич Минин, вот тогда я подумал, что что-¬то мне в жизни удалось, не зря приехал в Москву. А потом – когда в этом же году я стал дирижером хора «Пересвет». Это было очень неожиданно, я и не мечтал, что когда-нинибудь окажусь во главе профессионального коллектива – вот тогда во второй раз подумал: наверное, что-¬то удалось.
– Задам дилетантский вопрос Вам как дирижеру. Вот один и тот же композитор, одни и те же ноты, и музыканты те же. Но вот говорят: это прочтение Караяна, а это Светланова, а это Темирканова. Вы нас, дилетантов, тут не обманываете, говоря так? Не «туфта» ли это? – Нет, это абсолютная правда. Ну, чтоб было понятно, приведу аналогию с литературой. Вот рассказ Чехова. Тот же самый текст разные артисты прочтут по-¬разному, по¬-своему расставят акценты, выстроят драматургию. Так и здесь. Этим искусство и интересно, потому что здесь есть магия. Вот мы получаем нотный текст, если это инструментальная музыка, мы получаем ноты и стихи, если это музыка вокальная, – а дальше это уже вопрос твоего таланта, твоего чутья, образования, твоей личности, прежде всего.
– А сейчас есть великие дирижёры среди ныне живущих? – Есть. Это Владимир Минин, если говорить о хоровом дирижировании. Это Федосеев, Темирканов.
– А вот Гергиев. Такое впечатление, что он везде и всюду. Можно ли качественно выполнять свою работу в таком темпе? Возникает подозрение, что здесь пиара и халтуры больше, чем творчества. Нет? – Я бы не говорил так резко. И более того, поспорил бы с этим. Прежде всего, для того чтобы делать такие выводы, всё-таки надо профессионально разбираться в дирижировании, быть хорошим музыкантом и уметь аргументированно объяснить, что и почему.
– Так потому я и спрашиваю именно Вас. – А я потому и не соглашаюсь с Вашей точкой зрения. Валерий Гергиев – это большой мастер, это подвижник, это человек, который очень много делает для нашего искусства. Он обладает такой неуёмной энергией, что, да, успевает и принимать участие в огромном количестве проектов, и дирижировать по всему миру, и успешно руководить Мариинским театром. А потом знаете, любая яркая творческая личность всегда вызывает шквал критики и всегда окружена и положительными, и отрицательными отзывами. Гергиев не исключение.
– Владислав, Вы довольно поздно начали свою сольную карьеру. С минусами понятно, но есть ли в этом плюсы? – Да, несомненно. Плюсы в том, что к этому моменту я уже накопил большой опыт – прежде всего в дирижировании, а это немаловажно в нашей профессии. Конечно, начал поздновато, но так сложилось, что до этого возраста я хоть и занимался вокалом, но не сказать, что регулярно, и не сказать, что с большим успехом. Но вот, видимо, есть какая-¬то магия чисел – именно в 33 года я понял, что как дирижёр достиг определенного уровня и, наверное, на этом же уровне останусь. Нет, конечно, я обрастал бы какими-¬то собственными наработками, конечно, не стоял бы на месте, но мне хотелось уже чего-¬то другого, какой-¬то большей реализации себя и как личности, и как музыканта. В профессии дирижера есть много подводных камней, которые сразу не видны. Вот представьте, Вы все два отделения стоите спиной к публике, что не очень интересно даже с человеческой точки зрения, ведь с людьми хочется общаться.
– Что интересно – так было не всегда. Когда-то дирижёр стоял спиной к оркестру, лицом к залу. – Совершенно верно, но всё-таки хорошо, что традиции изменились и последние несколько веков дирижёр стоит лицом к оркестру – это всё-таки более эффективно в исполнительском плане. И вот когда вы дирижируете спиной к залу, вы общаетесь с публикой как бы через посредников, то есть через музыкантов, вы от них зависите – насколько они поймут ваш замысел, ответят вашему посылу и уже этот посыл передадут в зал. А так хотелось общаться напрямую.
– А потом разве не возникало у Вас мысли, что такой голос просто обидно зарывать в землю? – Может, это странно прозвучит, но я достаточно скептически относился к своим вокальным возможностям лет до 30. Ну, есть голос и есть, не сказать, что такой уж прямо весь из себя большой и красивый. А потом и родители, и мои педагоги заложили в меня очень высокие требования к себе и в профессии, и в человеческом плане. Понимаете, есть уровень таланта, который позволяет вам петь на кухне, в компании друзей, соседей и иметь большой успех.
– Это как раз про меня. – А вот не зарекайтесь.
– Ну, уж. – Есть масштаб таланта, когда можно заинтересовать зал в 500 человек, в 1000 человек, есть уровень стадиона. Я до 30 лет, воспитанный достаточно строго, занимался своим делом и думал, что в принципе для этого я и рождён на белый свет. Но вот в те загадочные 33 года что-то во мне поменялось, и я решил рискнуть.
– Подозреваю, что это был нелёгкий переход. – О, да. Мы живём в рыночное время со всеми вытекающими отсюда последствиями. А талант петь и талант продавать своё искусство – это абсолютно разные вещи. Эти таланты практически никогда не совпадают. Так что всё случилось не в один день, и всё было непросто.
– Владислав, Вам навыки и опыт дирижирования помогают или мешают, когда Вы поёте? – Помогают, вне всякого сомнения. Во-первых, потому что у дирижёра вырабатывается соответствующая мануальная техника. И это выражается не только в том, что он машет руками, удерживая в одном темпе исполнителей, но он ещё показывает, как надо сыграть, какую выразительность вложить в тот или иной музыкальный фрагмент. И вот этот навык очень помогает на сцене при исполнении песен и романсов. А потом, знаете, у меня есть такая традиция – я в своих сольных концертах обязательно одну песню пою вместе со зрительным залом, и вот тут мои дирижёрские навыки пригождаются очень сильно. И публика бурно реагирует: мы, мол, пришли просто послушать, а тут вдруг появилась возможность спеть, да ещё и под оркестр.
– Но зато, как дирижёр, Вы, наверное, чувствуете малейшую фальшь музыкантов? – Да, бывает и такое, но я очень уважительно отношусь к тому, кто стоит за дирижёрским пультом, потому что как никто другой понимаю, насколько это тяжело. И потом, мне везёт. Я не могу вспомнить ни одного концерта, который бы прошёл с оркестром весьма среднего уровня. Я пою с коллективами, с которыми работать большая честь и радость. И Смоленский оркестр народных инструментов под руководством маэстро Степанова в этом ряду, конечно. Я не первый раз выступаю с ними, и каждый раз удивляюсь, как люди за весьма скромную зарплату приходят каждый день на работу и самоотверженно выкладываются на все 100 процентов. А ведь это не просто прийти, открыть ноты, сыграть и пойти домой. Для того чтобы техника была всё время в тонусе, инструменталист каждый день должен выполнять определённое количество технических упражнений. Это зачастую занимает часы. Так что, дорогие смоляне, гордитесь, что у вас есть такой великолепный оркестр и такой замечательный дирижёр.
– Вы никогда не считали, сколько произведений в Вашем репертуаре? – Вот не считал. Сейчас попробую сказать приблизительно – наверное, около 400. Немного на самом деле.
– Ну и не мало. А знакома такая проблема – забываете слова на сцене? Ведь 90 процентов снов актёрских, как они сами рассказывают, это – «выхожу на сцену и не могу вспомнить ни одного слова».
– Да… Вопрос не в бровь, а в глаз. Первые два года моей сольной карьеры бывало, скажу честно, что слова путал, а однажды просто начисто забыл текст, причём в произведении, которое пел уже, наверное, год. Конечно, это ужасно, это невозможно передать словами, что чувствует человек, который только что был в образе, пел, на него смотрело 500 зрителей – а это было, как помню, в Москве в зале Политехнического музея, – и вот что-то произошло в голове, всё – чистый лист. Но знаете, я проанализировал, почему это происходит, нашёл причину всех бед, устранил её, и подобных проблем в последние три года не бывает.
– И в чём была причина, если не секрет? – Не секрет. Я поменял сам принцип выучивания материала. Раньше просто учил текст, а потом уже работал над ним как актёр, выстраивал фразировку, строил образ, и получалось, что, во-первых, много времени уходило на выучивание текста, а во-вторых, когда ты просто запихиваешь материал без эмоционального участия, сознание сопротивляется. И вот тогда я сразу начал учить и нотный текст, и слова, одновременно работая над образом, одновременно подкладывая эмоции, выстраивая форму и фразировку, и оказалось, что это в разы сокращает время на запоминание текста, и главное, благодаря тому, что всё идёт через сердце, а не через голову, – это настолько входит в подсознание, что проблем никаких не бывает.
– Владислав, среди этих 400 произведений нет ведь – это я наступаю на больное место – ни одного, написанного специально для Владислава Косарева. Вы поете хорошо известный русский и советский репертуар. Это не только Ваша проблема, конечно. Нет песен, нет материала. Почему такой провал – и в песенной поэзии, и в музыке? Казалось бы, живы ещё и Пахмутова, и Зацепин, и Тухманов, и Максим Дунаевский. Ну попса деградировала полностью – здесь понятно, но нет песен и для артистов Вашего уровня. Чем это объясняется, на Ваш взгляд? – Очень трудно ответить на этот вопрос. Что-¬то поменялось в людях – в тех людях, которые раньше были готовы слушать эту музыку, что-¬то поменялось в стране, в самом времени, в самой эпохе. И ведь музыка – это только часть проблемы. А вспомните советский кинематограф. А советский балет? А советский спорт? Что-¬то сломалось. Что касается песенной культуры, то появляются, конечно, отдельные песни, которые находятся на сравнительно хорошем уровне, но по большому счёту, конечно, спад. И спад этот начался с приходом «Ласкового мая». Я ничего против не имею – и эта музыка имеет право на существование, но беда состоит в том, что появилось огромное количество людей, готовых эту музыку слушать. А есть спрос, есть и предложение. Это во¬-первых. А во-¬вторых, знаете, советское время было, конечно, неоднозначно, как и любое время, и всё же тогда – как бы это казённо ни прозвучало – люди в руководстве страны понимали значение музыкальной культуры, особенно песенной культуры для воспитания общества. Сейчас же…
– … сейчас же происходит то, о чём Вы хотите сказать и не хотите – дебилизация того самого общества. – Да, но кто такие задачи ставит?!
– Вот имён никто не назовёт. Я не думаю, что Путин и Медведев. Другое дело, что они и не препятствуют этой самой дебилизации. Хорошо, давайте снова о Вас. Какие Вы чувства испытываете перед выходом на сцену? Предложу два варианта: «Ах, наконец настал тот момент, и сейчас я предстану перед публикой» или «Господи, скорей бы уже всё это началось и кончилось». – (Смеётся). Нет, знаете, ни то, ни другое. Всегда, перед тем как выйти на сцену, я стараюсь минут за 15 или как-¬то незаметно выйти в зал и посмотреть на людей, или в крайнем случае из-¬за кулис посмотреть. Я пытаюсь рассмотреть каждого, кто пришёл на концерт, пытаюсь с ним мысленно подружиться, полюбить его. И выходя на сцену, я уже готов к тому, что в зале сидят мои самые родные, самые близкие люди, с которыми мы вместе будем наслаждаться высоким искусством.
– Есть такое выражение «взять зал». Вы понимаете, когда Вы его уже «взяли»? – Ой, не люблю я это выражение. Я выхожу не для того, чтобы «брать зал», «рвать зал», доказывать что-¬то публике. Я выхожу, чтобы петь и сделать так, чтобы хотя бы на два часа люди стали счастливыми.
– Владислав, хочу поговорить о гонораре. Не призываю называть сумму, просто хочу спросить: а как определяется эта сумма? Я не имею в виду попсу. Вот если говорить о Вас, кто это решает? Как это вообще решается в кругу исполнителей Вашего уровня, Вашего репертуара? – Ещё один вопрос, к которому я совершенно не готов, но буду честно отвечать. Гонорар любого артиста в наше время зависит от его медийности, т.е. от того, сколько людей его знает благодаря телевидению, радио, прессе. От этого зависят наполняемость зала, продаваемость билетов. Важен очень, конечно, и уровень его мастерства. Его воздействие на аудиторию и количество людей, готовых это воздействие испытать вновь и вновь. Что касается меня, то мой гонорар в значительной степени складывается из стоимости аранжировок, которые я привожу в оркестр. Дело в том, что если ты активно гастролируешь, приезжаешь в один и тот же город много раз, ты должен всё время привозить новую программу. А это финансовые вложения – это поиск репертуара, это заказ аранжировок, а аранжировка, скажем, для оркестра народных инструментов, стоит от 5 до 10 тыс. руб., для симфонического оркестра – от 10 до 40 тыс. руб. И вот стоимость этих аранжировок тоже входит в мой гонорар, потому что потом они остаются в библиотеке оркестра. Таким образом, в моём случае, концертная организация покупает не только артиста, но и его программу.
– Я впервые Вас увидел на канале «Культура» в программе «Романтика романса», правда, не знал, что Вы – смоленский, но запомнил и по голосу, и по манере исполнения. Это программа ведь и даёт вам ту самую медийность. Этим Вас и привлекает? – И этим, конечно, тоже, но только в какой-¬то степени. Мне, прежде всего, важна здесь возможность исполнять ту музыку, которую я люблю, которая мне нравится, и исполнять её вместе с великолепными музыкантами, будь то оркестр кинематографии, или оркестр Феликса Арановского, или ансамбль Татьяны Солнышкиной. А в-третьих, это даёт возможность участвовать в одной передаче с прекрасными актёрами и певцами. Например, с Екатериной Гусевой – совершенно очаровательной женщиной и замечательной актрисой и певицей.
– Владислав, Вам так много всегда дарят цветов, вся сцена завалена. Это Вам не мешает? На выступлениях зарубежных эстрадных исполнителей такое не увидишь. Никто не бежит с букетом к Мадонне или к Джорджу Майклу – там это не принято и даже запрещено. – А ведь правда – никогда об этом не задумывался. Но знаете, получать цветы и подарки – это ведь всегда приятно. Правда, я отдаю себе отчёт в том, что они дарятся не мне лично, а артисту, тому образу, который я создал, исполняя ту или иную песню. Если человек благодарит тебя за твой талант – это здорово.
– Спасибо Вам большое. Успехов во всех делах. – Сердечно благодарю, был очень рад с Вами пообщаться.
все новости |